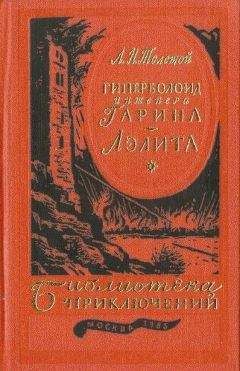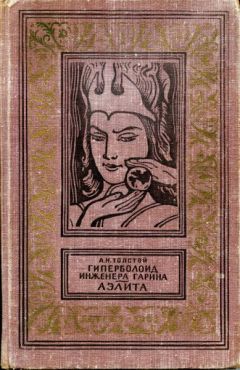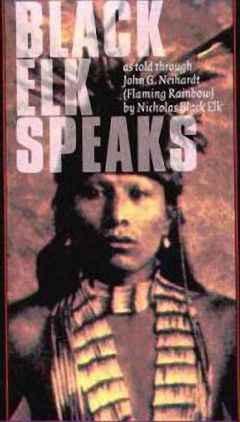— Вы семейный?
— Женатый, детей нет.
Солдат ногтями деловито постукивал по столу, поглядывал кругом с любопытством. Лось вкратце рассказал ему об условиях перелета, предупредил о возможном риске. Предложил обеспечить семью, и выдать жалованье вперед деньгами и продуктами. Солдат кивал, поддакивал, но слушал рассеянно.
— Как, вам известно, — спросил он, — люди там, или чудовища обитают?
Лось крепко почесал в затылке, засмеялся:
— По-моему — там должны быть люди. Приедем, увидим. Дело вот в чем: уже несколько лет на больших радиостанциях в Европе и в Америке начали принимать непонятные сигналы. Сначала думали, что это — следы бурь в магнитных полях земли. Но таинственные звуки были слишком похожи на азбучные сигналы. Кто-то настойчиво хочет с нами говорить. Откуда? На планетах, кроме Марса, не установлено пока жизни. Сигналы могут итти только с Марса. Взгляните на его карту, — он, как сеткой, покрыт каналами. Видимо, там есть возможность установить огромной мощности радиостанции. Марс хочет говорить с землей. Пока мы не можем отвечать на эти сигналы. Но мы — летим на зов. Трудно предположить, что радиостанции на Марсе построены чудовищами, существами, не похожими на нас. Марс и земля, — два крошечные шарика, кружащиеся рядом. Одни законы для нас и для них. Во вселенной носится живоносная пыль, семена жизни, застывшие в анабиозе. Одни и те же семена оседают на Марс и на землю, на все мириады остывающих звезд. Повсюду возникает жизнь, и над жизнью всюду царствует человекоподобный: нельзя создать животное, более совершенное, чем человек, — образ и подобие Хозяина Вселенной.
— Еду я с вами, — сказал солдат решительно, — когда с вещами приходить?
— Завтра. Я должен вас ознакомить с аппаратом. Ваше имя, отчество, фамилия?
— Алексей Гусев, Алексей Иванович.
— Занятие?
Гусев, словно рассеянно, взглянул на Лося, опустил глаза на свои постукивающие по столу пальцы.
— Я грамотный, — сказал он, — автомобиль ничего себе знаю. Летал на аэроплане наблюдателем. С восемнадцати лет войной занимаюсь, — вот, все мое и занятие. Свыше двадцати ранений. Теперь нахожусь в запасе. Он вдруг ладонью шибко потер темя, коротко засмеялся. — Ну и дела были за эти-то семь лет. По совести говоря, — я бы сейчас полком должен командовать, — характер неуживчивый. Прекратятся военные действия, — не могу сидеть на месте: сосет. Отравлено во мне все. Отпрошусь в командировку, или так убегу. — Он опять потер макушку, усмехнулся, — четыре республики учредил, в Сибири да на Кавказе, и городов-то сейчас этих не запомню. Один раз собрал три сотни ребят, — отправились Индию воевать. Хотелось нам туда добраться. Но сбились в горах, попали в метель, под обвалы, побили лошадей. Вернулось нас оттуда немного. У Махно был два месяца, ей-Богу. На тройках, на тачанках гоняли по степи, — гуляй душа! Вина, еды — вволю, баб — сколько хочешь. Налетим на белых, или на красных, — пулеметы у нас на тачанках, — драка. Обоз отобьем, и к вечеру мы — верст уж за восемьдесят. Погуляли. Надоело, — мало толку, да уж и мужикам махновщина эта стала надоедать. Ушел в Красную армию. Потом поляков гнали от Киева, — тут уж я был в коннице Буденного. Весь поход — рысью. Поляков били с налету, — "Даешь Варшаву"! А под Варшавой сплоховали, — пехота не поддержала. В последний раз я ранен, когда брали Перекоп. Провалялся после этого, без малого, год по лазаретам. Выписался, — куда деваться? Тут эта девушка моя подвернулась, — женился. Жена у меня хорошая, жалко ее, но дома жить не могу. В деревню ехать, — отец с матерью померли, братья убиты, земля заброшена. В городе тоже делать нечего. Войны сейчас никакой нет, — не предвидится, Вы уж, пожалуйста, Мстислав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам на Марсе пригожусь.
— Ну, очень рад, — сказал Лось, подавая ему руку, — до завтра.
Все было готово к отлету с земли. Но два последующие дня пришлось, почти без сна, провозиться над укладкой внутри аппарата, в полых подушках, множество мелочей. Проверяли приборы и инструменты. Сняли леса, окружавшие аппарат, разобрали часть крыши. Лось показал Гусеву механизм движения и важнейшие приборы, — Гусев оказался ловким и сметливым человеком. На завтра, в шесть вечера, назначили отлет.
Поздно вечером Лось отпустил рабочих и Гусева, погасил электричество, кроме лампочки над столом, и прилег, не раздеваясь, на железную койку, — в углу сарая, за треногой телескопа.
Ночь была тихая и звездная. Лось не спал. Закинув за голову руки, глядел на сумрак — под затянутой паутиной крышей, и то, от чего она назавтра бежал с земли, — снова, как никогда еще, мучило его. Много дней он не давал себе воли. Сейчас, в последнюю ночь на земле, — он отпустил сердце: мучайся, плачь.
Память разбудила недавнее прошлое… на стене, на обоях — тени от предметов. Свеча заставлена книгой. Запах лекарств, — душно. На полу, на ковре — таз. Когда встаешь и проходишь мимо таза — по стене, по тоскливым, сумасшедшим цветочкам — бегут, колышатся тени предметов. Как томительно! В постели то, что дороже света, — Катя, жена, — часто, часто, тихо дышит. На подушке — темные, спутанные волосы. Подняты колени под одеялом. Катя уходит от него. Изменилось, недавно такое прелестное, кроткое лицо. Оно — розовое, неспокойное. Выпростала руку и щиплет пальцами край одеяла. Лось снова, снова берет ее руку, кладет под одеяло. "Ну, раскрой глаза, ну — взгляни, простись со мной". Она говорит жалобным, чуть слышным голосом: "Ской окро, ской окро". Детский, едва слышный, жалобный ее голос хочет сказать: — "открой окно". Страшнее страха — жалость к ней, к этому голосу. "Катя, Катя — взгляни". Он целует ее в щеки, в лоб, в закрытые веки. Но не облегчает ее жалость. Горло у нее дрожит, грудь поднимается толчками, пальцы вцепились в край одеяла. "Катя, Катя, что с тобой?.." Не отвечает, уходит… Поднялась на локтях, подняла грудь, будто снизу ее толкали, мучили. Милая голова отделилась от подушки, закинулась… Она опустилась, ушла в постель. Упал подбородок. Лось, сотрясаясь от ужаса и жалости, обхватил ее, прижался. Забрал в рот одеяло.
На земле нет пощады…
Лось поднялся с койки, взял со стола коробку с папиросами, закурил и ходил некоторое время по темному сараю. Потом, взошел на лесенку телескопа, нашел искателем Марс, поднявшийся уже над Петербургом, и долго глядел на небольшой, ясный, теплый шарик. Он слегка дрожал в перекрещивающихся волосках окуляра.
"Да, на земле нет пощады", — сказал Лось в полголоса, спустился с лесенки и лег на койку… Память открыла видение. Катюша лежит в траве, на пригорке. Вдали, за волнистыми полями, — золотые точки Звенигорода. Коршуны плавают в летнем зное над хлебами, над гречихами. Катюше — лениво и жарко. Лось, сидя рядом, кусая травинку, поглядывает на русую, простоволосую голову Катюши, на загорелое плечо со светлой полоской кожи между загаром и платьем, на Катюшин, с укусом комара, кулачок, подперевший щеку. Ее серые глаза — равнодушные и прекрасные, — в них тоже плавают коршуны. Кате восемнадцать лет, думает о замужестве. Очень, очень, — опасно мила. Сегодня, после обеда, говорит, — пойдемте лежать на пригорок, оттуда — далеко видно. Лежит и молчит. Лось думает, — "нет, милая моя, есть у меня дела поважнее, чем, вот, взять на пригорке и влюбиться в вас. На этот крючок не попадусь, на дачу к вам больше ездить не стану".
![Алексей Толстой - АЭЛИТА (Закат Марса) [ранняя версия романа]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)